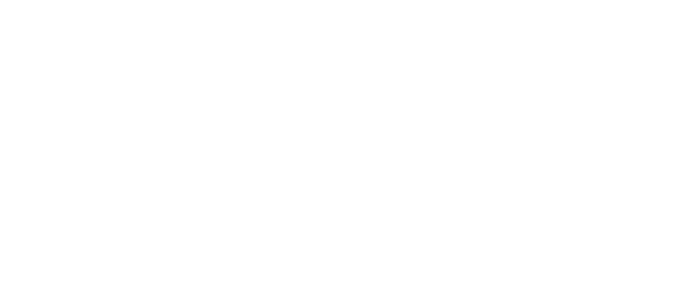В Берлине я стоял у рейхстага и высматривал надписи на колоннах, которые видел в военной кинохронике. Их стёрли. Надписи остались лишь в фильмах, а здесь только один “автограф” – “Здесь был солдат Петров”. На самой верхней части рейхстага. Сохранили как память, до того места попасть невозможно (как только он умудрился написать именно там?)

У моего отца — Ильяса Мамбеталиева были медали, которые представляли географию Европы – за Варшаву, Прагу, Будапешт и Берлин. Особую значимость имела медаль “За взятие Берлина”. Начинал он войну в составе Панфиловской дивизии. И для меня, мальчика из послевоенного десятилетия, это была такая огромная гордость — быть сыном панфиловца. Мы играли в войну, я пришивал себе на пиджак лейтенантские погоны отца и командовал. Потом подрос мой младший брат, он для игр уже прикручивал на грудь отцовский орден Красной Звезды. Думали, пусть играет малыш. Но однажды он вернулся с “поля боя” без ордена. То ли потерял, то ли выкрутил кто-то (ему было 5 лет). Не нашли. Переживали жутко.
Отец никогда не поднимал руку на сыновей, он его даже не поругал. Но я, конечно, хорошенько всыпал братишке (мне тогда было 11 лет). А он стойко держался и повторял, что пойдет на войну, получит такой орден и вернет его отцу. Я же кричал ему: “Какая тебе война, дурак, она ведь уже прошла, больше не будет!” А он твердил, что “будет, когда он вырастет”, что “вернет орден”. От досады я перестал с ним разговаривать. Он вырос, пошел в армию, оттуда попал в Афганистан и выполнил свое обещание. В 1980 году его привезли в цинковом гробу. Затем военком приехал к нашему отцу и вручил ему орден Красной Звезды (посмертно, за подвиг сына). В том году было 35-летие Победы. Орден я прикрутил крепко на отцовский пиджак, в кармане которого он хранил письмо сына, где были слова “отец, я никогда не опозорю твои седины”. Слова грели сердце старика.
А история сыновьего ордена имела печальное продолжение. В 1990 году была дата – 45-летие Победы. В этот год отца часто приглашали на встречи как участника Великой Отечественной войны. Летом он был в гостях, в жаркий день снял пиджак и повесил на стул. Вернулся домой потухший — ордена на пиджаке нет. Он тогда даже объяснить ничего не мог. Я после этого выписал номер ордена из книжки и ходил по рынкам, где торговали наградами фронтовиков. Не нашел. Хотел купить такой же орден, но отец категорически запретил мне делать это. Он был слишком благородным, чтобы пойти на такую замену. Остались лишь две орденские книжки от Красной Звезды – одна отцовская, другая — его сына.

Все близкие мне мужчины (родичи и наставники) были фронтовиками. Супруги моих родных тетушек (сестёр отца) тоже стояли в этом строю. Первый их них Барпыбек Мураталиев прошел все 5 лет войны, вернулся с боевыми наградами и возглавил управление учебных заведений при Минсельхозе республики. Это он способствовал тому, что Чынгыз Айтматов окончил Жамбульский зооветеринарный техникум и поступил в наш сельхозинститут. Он был его сородичем из Таласа. Умер в 1958 году. В последний месяц жизни лежал уже дома и принимал обезболивающие уколы от онкологии. Уколы делала тетя или медсестра. Однажды я остался с ним один, женщины задержались, а боль становилась ужасной, и он попросил меня сделать укол. Шприц был готов, надо было только уколоть. Объяснил мне, как это делать, но я не смог проткнуть кожу на плече. Мне было 5 лет, сил не хватало, плакал от досады, злился на себя, а он успокаивал и помогал. Наконец удалось. Вспоминаю тот момент и понимаю, что он наглядно показал пример стойкости мужчины. Он был настоящим воином.
Супруг моей младшей тети тоже прошел фронт. Его звали Шарип Рахимбаев, после войны он занимал крупные должности в Тюпском районе. Умер в почтенном возрасте.
Вспоминаю, как Барпыбек жезде ставил меня на табурет и просил читать Коран. Это дед научил меня, также пел на арабском песни “сахоба” (так именовали воинов пророка). Он сильно рисковал, в то время шла борьба с пережитками, а тут 5-летний мальчик читает мусульманскую молитву и поет мусульманские песни. И это в доме крупного партийно-советского работника, фронтовика и члена КПСС. Тетя моя в такие минуты “сходила с ума”, просила меня прекратить, а он хохотал и поощрял: “Громче, малыш, ты молодец!” Я старался. Если бы кто “просигналил” в органы, то ему и его друзьям за эти посиделки с намазом явно не поздоровилось. Сейчас понимаю, что для тех кыргызских мужчин это были редкие мгновения отдушин. Никто не сдал. А отец мой такие вещи не позволял, при нем я арабские уроки деда не демонстрировал. У него была другая отдушина. В 1958 году вышел первый том эпоса “Манас”. Темно-синяя книга, красивая, она и сейчас вне конкуренции по форме и содержанию. По вечерам он читал нам вслух текст этого грандиозного творения. Голос у него был великолепный. Много раз это читалось и перечитывалось в те далекие годы. Когда доходило до сцены последней битвы воинов Манаса, каждый раз дух захватывало так, что я вскакивал с места, пытаясь помочь Манасу справиться с врагами.

Фронтовиком был и мой родной тесть, это был очень добрый человек, прожил 91 год, всегда изумлял меня своей отзывчивостью и трудолюбием. До конца дней был в движении, слушал радио, смотрел телевизор, читал газеты, живо интересовался текущей политикой. Активно участвовал в работе общественного объединения ветеранов войны. Ценил честные поступки и бесконечно верил в лучшее будущее страны. Такие благородные люди не забываются. В Бишкеке на стене одного из этажных домов висит памятная табличка с надписью “Здесь жил участник Великой Отечественной войны Аскар Абдразаков”. Это мой тесть, отец моей супруги Гульбары Аскаровны.
В годы обучения в аспирантуре я стал учеником профессора Евгения Кузьмича Озмителя. Сам пришел к нему на кафедру и заявил, что желаю писать диссертацию под его руководством. Он хитро прищурился и спросил, почему я так решил. Ответил прямо, что я — сын фронтовика, потому и пришел к фронтовику (видел в литературном журнале его фото с боевыми орденами). Отметил, что у моего отца точно такие награды за войну. Ответ ему понравился. Он уточнил, с какого года мой отец. Вопросов не было. Написал диссертацию под его руководством.
Скончался Евгений Кузьмич в 1994 году (до своего 70-летия). Был восхитительным человеком, безупречным, для которого честь дороже счастья. Помню его своеобразные тесты на эрудицию. Википедии тогда не было, был Самиздат, мы доставали запрещенные книги и читали по ночам, передавали из рук в руки, сон отходил в сторону – какой сон перед “Мастером и Маргаритой”, когда от магического реализма Михаила Булгакова дух захватывало. Поделился восторгом от прочитанного с Кузьмичом (так мы его называли между собой), а он быстро меня “приземлил”, предложив ответить на тест “какое масло пролила на рельсы Аннушка? В каком месте Москвы произошла встреча с профессором черной магии? Как называли кентуриона Марка? Какой национальности был Иешуа и как следовало обращаться к Понтию Пилату? Ответов не знал, ну, разве что запомнил Крысобоя (так звали Марка). Стало стыдно, прочел текст романа еще раз и выяснил ответы на тест. И после этого стал все тексты осваивать досконально (с карандашом в руке). Без этого просто немыслим профессиональный анализ любого произведения. Таков был урок от моего научного руководителя.
В годы своей юности я смотрел вместе с отцом фильм ”Тихий Дон”. Там была сцена, где русский офицер (полковник царской армии) смотрит прямо в лицо Григорию Мелехову, который говорит ему, чтобы он отвернулся, а полковник раскрывает китель и говорит – “На, смотри, как умирают русские офицеры”. Раздается выстрел. Полковника расстреливают. Я смотрел на эти кадры с чувством удовлетворения: мол, правильно, что убили этого белогвардейца. А отец смотрел на эту сцену со слезами на глазах. Спросил, почему слезы, это же хорошо, что убили врага. Он тихо так говорит мне: “Сынок, это не враг, это настоящий офицер, запомни эту сцену, так умирают воины. Потом ты это поймешь”. И это говорил мой отец, офицер-панфиловец, о царском полковнике.
Позже я понял. Сцена из того легендарного фильма запомнилась на всю жизнь, потому что это был образец того, как встречают свой последний миг настоящие офицеры — грудью нараспашку. Роль эту исполнил народный артист СССР Михаил Глузский. Они были ровесниками. Отец всегда смотрел фильмы с его участием, внешне они даже были чем-то похожи. Еще отец всегда слушал все песни в исполнении Марка Бернеса (тоже его сверстник). В этом есть сила правдивого искусства – оно вызывает слезы, которые очищают душу. Сверстники отца, когда закончилась война, разменяли четвертый десяток. На фронте их называли “старики”, потому что они были призваны первыми — 22 июня 1941 года. Отец мой 1915 года рождения. А сверстники моего тестя попали на фронт в 1944 году, когда им исполнилось по 18 лет.
Они познали истину жизни на фронте. У писателя-фронтовика В. Астафьева есть слова о том, что он был на “другой войне, не на той, что описана в книгах и показана в фильмах. Дети фронтовиков его не совсем понимали, даже как-то раздражались. Помню, как спросил у отца, мол, о чем этот прозаик говорит и зачем? “Он сказал правду, сынок, я ведь тоже был на той войне, которую он имеет в виду, это честный и умный фронтовик”, — таков был ответ. Позднее я понял, что классик литературы имел в виду что-то самое важное, самое упрятанное, и оно – важное — осталось там, в окопах. С этим и жили фронтовики. Видимо, об этом писал поэт Михаил Лермонтов о воинах 1812 года, что “героизм их не повторится”, что “богатыри не вы, не будь на то Господня воля, не отдали б Москвы”. Но это повторилось в 1941 году. Москву не отдали. Дивизия генерала Панфилова её отстояла.
Кубан МАМБЕТАЛИЕВ,
сын фронтовика-панфиловца.
Подготовлено при поддержке фонда «Русский мир» https://russkiymir.ru/