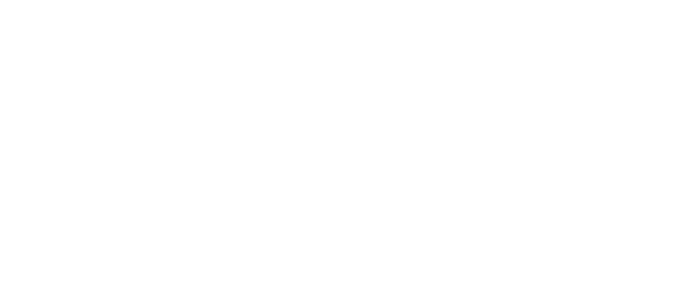В этом году Кыргызстан, как и другие постсоветские страны, отмечает 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Череда памятных мероприятий стартовала в этом году с митинга-реквиема, ознаменовавшего 81-ю годовщину снятия блокады Ленинграда. В Кыргызстан, согласно архивным данным, было эвакуировано свыше 16 тысяч жителей блокадного города, в том числе 3,5 тысячи детей. В села и малые города Кыргызстана привозили детей, чудом спасенных из осаждённого Ленинграда. Привезли детишек и в поселок Курменты Иссык-Кульской области. Здесь шефство над детьми взяла секретарь сельского совета юная Токтогон Алтыбасарова, которой на тот момент было 18 лет. А детей, голодных, худеньких, требующих внимания и заботы, было не 10 и не 20, а 150… Среди этих детей был и Леонид Алексеевич Корнев.

Горькое эхо Великой Отечественной войны навсегда оставило глубокий след в детских осиротевших душах. Казалось бы, детство – это беззаботная пора, но не для детей, из-за войны лишившихся родительской ласки, тёплых объятий, защиты и любви. На данный момент Леониду Алексеевичу 87 лет, он живет в селе Новопокровка Ысык-Атинского района. В одном из номеров нашей газеты он увидел знакомую фотографию из его фотоальбома и решил позвонить в редакцию, чтобы поведать свою историю.
Все мы родом из детства

…Мне было примерно 5 лет, когда я попал в детдом на Иссык-Куле, в селе Курменты. Я до сих пор удивляюсь, что не помню дороги, как нас перевезли в Кыргызстан. Но в память врезалась такая картина: ехали мы на повозке, груженой вещами, детьми, а тянули её не лошади, а волы. Я не помнил имена своих родителей, мирную жизнь до войны, но я четко знал свои имя и фамилию. После приезда нас поселили в бараках, а через некоторое время мы отправились пешком в детдом в Курменты – наверное, это было примерно 2 км пути. Я шел вместе со всеми ребятами, крепко сжав руками свою подушку. Все тяжелые вещи были загружены в повозку. Поселили нас в здании бывшего монастыря, как мы позже узнали, там жили монахи. Там было три корпуса: самый большой отвели для мальчиков, так как нас было больше, для девочек — чуть поменьше. Был ещё корпус, предназначенный для медицинских работников, директора и воспитателей. Там, где были медсестры, лечили детей – это место называлось изолятором. Озеро было всего в 200 метрах от нас и, конечно же, мы все лето купались, рыбачили. Я плавал лучше всех, чувствовал себя как рыба в воде — мог проплыть 5 км без передышки, но около берега. Рядом были два залива — один Курментинский с пристанью, другой Техникомский — с фермой. Мы туда с флягой за молоком ходили. Летом мы здесь рыбачили, а зимой катались на коньках.
Кыргызская мама

В первое время пребывания в детдоме было тяжеловато, не хватало продуктов, детей было много. Помню, пришли мы в столовую после того, как помогали в подсобном хозяйстве, голодные, нам дали лапшу, а я не мог её найти, искал ложкой, хотел выловить, но так и не нашел. Вторым директором детдома у нас был бывший военный, раненый в бою, Леонид Сергеевич Хлебников, и помощник у него был тоже военный воспитатель. В школу мы, детдомовские, ходили вместе с «домашняками», так мы называли детей, которые жили у себя дома, а они нас детдомовцами называли. Но мы дружили, я часто ходил в гости к одной кыргызской семье, у них у самих было три мальчика. Я помогал им в огороде, играл с детьми, а кыргызская мама называла меня ласково «Лёня, сынок!», «айланайын, Лёнька!», а я называл её мамой. Я двадцать лет искал родных, родителей, но всё бесполезно. Когда я жил в детдоме, однажды воспитательница сказала мне, что моя мама якобы умерла при родах пятого ребенка, что она из Саратова, а папу репрессировали. Если это так, то у меня должны быть еще две сестры и брат. Но за это время не получилось их найти. Знаете, вот в начале хотелось к маме, в свой дом, но позже это прошло.
Детдом – это как Республика Шкид
Скажу честно, что в детдоме бывало по-разному, некоторые моменты вспоминаешь с удовольствием, а другие и вспоминать не хочется. Читали повесть «Республика Шкид»? Вот примерно так и было, когда ребята постарше издевались, отбирали у детей помладше еду. Был у нас такой мальчик Иосиф, а с нами жил сын директора Равиль. Однажды он рассказал об этом Иосифе своему отцу Казбеку, тот отхлестал хулигана. После этого случая стали жить спокойно.
В первое время, когда было холодно, нам местные жители связали байпаки – шерстяные носки, а также телогрейки. Так вот носить байпаки – это была такая радость, потому что они очень тёплые были. Наденешь байпаки, потом калоши, сверху коньки и можно было кататься на коньках часами. После этого ноги были мокрые и приходилось байпаки и калоши сушить ночами. На нас и одежды толком не было, до сих пор удивляюсь, как мы не заболели.
Воспоминания из детдома
Не помню, чтобы я болел, за исключением одного случая, когда меня поместили в изолятор. Пожилой доктор положил градусник и ушел, как мне показалось — его очень долго не было. Потом он пришел, посмотрел на градусник и сказал, что у меня температура 40 градусов, но это потому что градусник долго не вытаскивали, сказал он. Летом мы лазали по яблоневым садам, и на нас нажаловались. Воспитатели решили выявить, кто яблоки таскает, и придумали способ вечером придти и под одеялами посмотреть наши ноги: если грязные, значит, точно по садам лазал. Приходит вечером проверка, а мы уже лежим в кроватях и притворяемся спящими. Тут у первого раскрывают одеяло, глядь, а там ноги грязные, смотрят – и у второго ноги грязные, на очереди я – и у меня тоже самое. «Да у них у всех ноги грязные» в голос завопили проверяющие и никого не стали наказывать. А зимой мы ходили на бурты и воровали картошку. На нас были такие полотняные пальтишки, и мы карманы распарывали, запихивали туда картошку и еле как шли от тяжести.
На берегу озера росла облепиха, по-кыргызски чычырканак, мы ее так и называли по-кыргызски. Брали ветки чычырканака, разводили огонь и запекали картошку в золе, испеклась, не испеклась, а съедали мы её очень быстро. До того она нам вкусной казалась. Я и сырую картошку ел, и сырую капусту, морковку, всё ел, потому что не наедались досыта. В первое время ели всё, что росло на земле, и сами не зная, объелись белены, они как семечки мака выглядят. Идем всей ватагой, как пьяные. Мне маленький арычок показался большим, и я с разбегу решил через него перепрыгнуть. Хорошо, что мало съели этих семечек. После этого не ели эту белену. Мы без дела не сидели, а ходили помогать в подсобном хозяйстве, сами заготавливали на зиму дрова, выкапывали торф, которым отапливали школу, там были болотистые места. Копали пластами, иногда по пояс в воде, а младшие и девчонки — выносили его на берег.
В подсобном хозяйстве разводили коров, гусей, кур, кроликов, ребятня — голубей. Голуби у нас были обученные, всегда возвращались к нам, мы обмен с «домашняками» проводили, мы им голубей, а они нам урюк. Так вот после обмена голуби обратно к нам прилетали, и мы их снова обменивали. А что было делать, мы ж детдомовские, выкручивались, как могли.
Если бы не Иссык-Куль — мы бы не выжили
Отчетливо запомнились эпизоды: когда их вспоминаю, то на глаза наворачиваются слезы. Мы шли работать на наш подхоз, а он был под горой, проходили мимо юрт. Мы шли гуськом помогать, и тут из юрт начали выходить люди, выносили нам кто молоко, кто айран, делились последним. Я этого никогда не забуду, наверное, если бы не эти прекрасные добрые люди, если бы не Иссык-Куль, то мы не выжили бы. Еще я запомнил день, когда закончилась война. Мы с другом были на улице возле магазина или парка, и тут раздается голос диктора, что войне пришел конец, наши победили. Мы как угорелые побежали в детдом, хотели первыми сообщить эту новость, а там все уже знали — там тоже было радио.
Жизнь после детдома

Я был в детдоме в Курменты с самого начала и до его закрытия. В 50-е года нам стало намного легче, нас стало меньше, кто-то вырос и уехал, кого-то нашли родные. Продуктов нам в то время уже хватало с излишком, хозяйство росло. Детдом наш в Курменты расформировали в 1954 году, хотя сейчас везде пишут, что в 1952-м. Когда детдом закрыли, мне было уже 16 лет, возраст нам определяли врачи и практически не ошибались. В 1954 году после детдома мальчиков направляли учиться в ремесленное училище во Фрунзе, а девочек отправляли в Узбекистан на прядильную фабрику, кто-то на медика выучился. Учились мы в училище основательно, обучали нас профессиям токаря, электрика, слесаря, кузнеца. Я отучился на токаря, за два года выучил все марки металлов, помню до сих пор всё наизусть. У меня была отметка «отлично» по политическим наукам, а все потому, что я ходил в парк имени Панфилова и там читал все газеты, которые были на стендах, начиная от политики и заканчивая культурой.
У меня была мечта получить высшее образование, и я его получил. После окончания училища меня направили в Шамалды-Сай на строительство ГЭС. Я работал в бригаде, монтировавшей высоковольтные вышки, большие такие, ажурные. Оттуда направили в армию в Калининград, там отслужил три года, вступил в Компартию. Возвратился в Кыргызстан в город Джалал-Абад, проработал один год на хлопковом заводе. Потом в аэропорт меня взяли механиком, поскольку в армии я был танкистом. В Джалал-Абаде я окончил вечернюю школу — 8-10 класс. Потом поступил на исторический факультет, причем сдал экзамены в вуз раньше, чем в школе. Меня допустили, потому что я взял справку о том, что успешно окончил школу. После института на практику приехал на Иссык-Куль в село Сан-Таш, затем побывал в Кен-Суу, на малой родине нашего президента. Я знаю все сёла Иссык-Кульской области, полюбился он мне. Здесь ведь прошло мое детство, душа тянется к озеру, охота побывать там, где когда-то совсем мальчишкой бегал с удочкой вместе с друзьями. В Джалал-Абаде меня назначили главой книготорга – сети книжных магазинов. Здесь же я познакомился со своей супругой Надеждой, она работала в садике воспитателем, а потом ее назначили заведующей. После Джалал-Абада мы переехали во Фрунзе, работал снабженцем на ТЭЦ Бишкека, позже начальником бюро металлов завода ЭВМ, последнее место работы – Кыргызский экономический университет, там я заведовал кафедрой, оттуда ушел на пенсию.
В 1987 году я ездил на трехдневную встречу бывших детдомовцев в Кара-Балту с Токтогон Алтыбасаровой и ее мужем. Встреча была организована Зиной Травкиной, там были и Катя Задыхина, по мужу Шершнева, Юра Голубев, Нина Хайкара, Валя Уколова, Быстров — имени не помню. Встречу на базе сахзавода организовала Зина: три дня мы общались, гуляли, вспоминали былое, фотографировались.
Всего я достиг сам, ни о чем не жалею, доволен своей жизнью. У меня три дочери — Ирина, Жанна, Оксана, есть внуки, правнуки. Хочу лишь поблагодарить эту благодатную землю, людей, ставших мне родными. Здесь я обрел семью, друзей и всё, что у меня есть.

Леонид Алексеевич до сих пор соблюдает режим. Видимо, осталась привычка после детдома — завтракает и обедает по часам, здоровье у него хорошее, копается в огороде и саду. Он выращивает виноград, посадил хурму, гранат и инжир, привезенные дочерью Ириной из Джалал-Абада. Разводит комнатные цветы. А еще у него есть любимый кот. Конечно, со всем этим он справляется с помощью дочери Ирины, которая присматривает за отцом. Внук Леонида Алексеевича пошел по стопам деда и стал историком, преподает в школе в Бишкеке.
— Папа очень любит слушать песню про голубей, рассказала Ирина:
Голуби, мои вы милые,
Улетайте в облачную высь.
Голуби, вы сизокрылые,
В небо голубое унеслись.
Юность, ты пришла с улыбкой
ясной.
О, моя любимая страна!
Жизнь была счастливой
и прекрасной,
Но внезапно грянула война…
Папа часто вспоминает Иссык-Куль, мы его возили по тем местам, где прошло его детство. Ходили в гости к его другу Курманбеку. Мы до сих пор дружим семьями, — резюмировала Ирина.
Война отобрала детство и родителей Леонида Алексеевича, а Иссык-Куль подарил семью, друзей и новый дом.
Гюльзада ИТКАРАЕВА.
Фото из личного архива Леонида КОРНЕВА, автора и www.